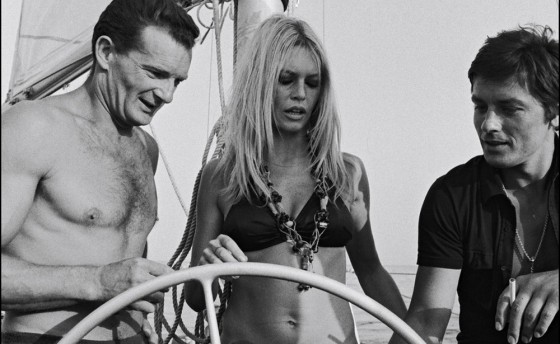Текст Сергея Борисова
Обстоятельства места
Селигер – это, конечно, озеро с именем собственным и многим хорошо знакомым. Но Селигер – это и собирательное название нескольких озер, разных по глубинам, размерам, обжитости, внутренней зарыбленности и внешней заягодности. Поэтому когда слышишь «я отдыхал на Селигере», то лучше уточнить, где именно, а то ведь может оказаться, что и не на Селигере вовсе, а на озере Сиг, Серемо, Сабро, Тихмене, Граничном или каком ином, их там без счета. А то и вовсе на Верхневолжских, этих тоже хватает: Стерж, Вселуг…
Сам же Селигер делится на плесы – Осташковский, Кравотынский, Березовский… Мы отправились на Полновский плес, единственный находящийся в Новгородской области, среди лесов Валдайского заповедника, все остальные плесы – в области Тверской.
Почему именно туда? Причин было несколько.
– У Осташкова, – говорили нам, – все исхожено, изъезжено, там людно, шумно. И музыка! – Собеседник понижал голос: – Если бы ты знал, как я ненавижу дым сигарет с ментолом и юбочки из плюша.
Мы тоже из числа поклонников других мелодий, и, вообще, сказанное не было для нас откровением. Год назад мы были в Осташкове, хотя и без парусов, и все испытали на себе.
– И вы не будете первыми!
Это мы тоже знали. Потому что есть, есть на Селигере свой яхт-клуб! Он создан энтузиастами-бессребрениками в деревне Покровское, что в 20 минутах на машине от столицы Озерного края. Называется клуб, естественно, «Паруса Селигера» (915 706-97-97, 921 340-13-30; [email protected]). Ребята сдают в аренду яхты, предлагают прогулки по озеру, привечают тех, кто хочет отсюда стартовать или, наоборот, здесь закончить свой поход. Яхт-клуб скромный, флот еще скромнее, никакого заоблачного еврокомфорта, но самое необходимое имеется, начиная от слипа с причалом и заканчивая сануслугами. Переночевать где тоже найдется.
– Хотим быть первыми! И тишины!
– Тогда вам на север! На Полновский.
Мы стали прощаться, и тут собеседник задал вопрос, который, по идее, должен был быть самым первым:
– А чего вам так неймется? Дался вам этот Селигер. Ехали бы на Средиземку, взяли в чартер яхту, такую всю белую-белую, и порядок.
Я кивнул, позволяя сыну вмешаться в разговор взрослых.
– Там все одно и то же, – веско проговорил юнга с динги «Динго». – Нового хочется.
Одна беда
Это в Кимры со своими сапогами не ездят, в Тулу – со своим самоваром, на Селигер надо везти свою лодку, если она парусная. Так мы и поступили.
Именно наличие прицепа с отягощением продиктовало маршрут. По Ленинградскому шоссе до Валдая, там от Яжелбиц налево – до Демянска, оттуда до Полново, а это уже Селигер. Все верно, но лучше бы мы ошиблись!
По приезду в деревню Покров, где мы сняли половину гостевого дома, нам поведали следующую историю. Не так давно новгородский губернатор решил почтить своим присутствием Никольский рыборазводный завод им. Варасского, дабы вместе с мастерами-рыборазводчиками отметить юбилей предприятия. Так местные хитрованы, не убоявшись начальственного гнева, повезли его по демянской дороге. А там яма на яме, да с острыми асфальтовыми краями – смерть покрышкам, боль подвескам. Но результата добились – денег на ремонт дороги губернатор выделил вдвое больше обещанного прежде. И все равно ремонт будет «ямочным».
Чтобы закончить тему, сразу скажу, что возвращались мы прямо на Валдай по грейдеру, и все оказалось куда проще и куда лучше. А вообще, Селигер – это где-то между Петербургом и Москвой, и если до Полновского плеса ближе от города на Неве, то до Осташковского – от столицы на Москва-реке. Ну и ехать можно по-всякому: через Ржев, Тверь, тот же Демянск, с запада через Андреаполь, карта вам в помощь. Закладывайте шесть-семь часов на дорогу – и вперед.
Но вернемся к началу, к дороге на Полново. Я крутил «баранку», уворачиваясь от ям, чертыхался, а мой мудрый 13-летний сын, уже в Полново, в тишине, покое и безлюдье, вдруг изрек:
– Будут хорошие дороги – тут станет тесно.
Пришлось согласиться:
– Опять беда. Но пусть будут хорошие дороги, с нас и дураков довольно.
Со своим самоваром
Сбросились мы запросто, с этим проблем вообще нет, был бы даже не слип, а просто пляж. Загнали прицеп, толкнули – и лодка закачалась на воде. Как перышко!
Мне была нужна лодка для неспешных прогулок под парусом, ничего экстремального, сам не любитель адреналина, и сыну не позволю. И такая лодка нашлась. Делают их там же, в Озерном краю, в поселке Пено, что стоит на берегу одноименного озера. Руководителем местной деревообрабатывающей фабрики оказался человек, беззаветно влюбленный в паруса. Не ограничившись распиловкой, калибровкой и всем подобным, Юрий Сероугольников организовал при фабрике верфь «12 футов» (peno12ft.ru) и начал строить парусные лодки. И среди них динги по классическому английскому проекту (YR №№ 97, 101/2017), небольшие, легкие, с прочным корпусом из пластика, но обильным деревянным «сопровождением», с гафельным парусом, не требующие обширных знаний в управлении. А еще они обаятельные, что было среди моих главных требований, ведь лишь к таким лодкам относишься с трепетом и любовью. Только красота, как говаривал классик, спасет мир. Согласен.
Название напрашивалось – подсказала книга из детства «Дикая собака динго, или Повесть о первой любви» Рувима Фраермана. Так наша динги стала «Динго».
Походы по подмосковной воде – Истре, Сенежу, Пироговке – показали, что выбор был удачным, а Селигер – что оптимальным. Прежде всего из-за осадки.
Промерами со времен СССР на озере никто толком не занимался, имеющиеся карты глубин по большому счету «самопальные».
– А зачем вам глубина? – спрашивали местные, и глядели эдак подозрительно, похоже, подозревая в нас конкурентов. – На судака пойдете? На угря? Так здесь угрей нет.
Но вопросы серьезной рыбалки нас не волновали, с нас достаточно было удочек и спиннинга. К слову, наши достижения – две щуки и лещ на кило-триста: сыну везло, как всегда везет юным и новичкам.
Не хотите говорить – не надо. Обойдемся. И обошлись, потому что у нас с собой было!
На протяжении недели, куда бы мы ни пошли, дисплей эхолота выдавал ставшую привычной картинку – стоило приблизиться к берегу, не говоря уж о том, чтобы заглянуть в один из бесчисленных заливов, и кривая тут же начинала карабкаться в гору. И вот уже мелко, совсем мелко, у дна стелятся водоросли, суетятся мальки, о чем-то шепчет тростник… Какой уж там киль! Только шверт, и хорошо, что на «Динго» он откидной, а не «кинжальный», и перо руля поднимающееся. Быстро вывернуться не всегда удавалось, так что, да, подбрасывало.
В результате выяснилось следующее. Полновский плес не только самый чистый, но и самый глубокий на Селигере. На его северном конце, у села Полново, глубина не более пяти метров – и так до деревни Кривая Клетка. Потом глубина начинает стремительно расти – аж до 19 метров посреди самой широкой части плеса – от деревни Красота на западном берегу до деревни Новый Скребель на восточном. Дно круто поднимается у острова Бежачий, за которым глубины становятся более «щадящими», и у островов Чайка и Великий уже не превышают 10 метров.
За Великий, лежащий, словно камень у порога следующего плеса, Сосницкого, мы не ходили. Хотя было такое желание – пересечь границу между Тверской и Новгородской областями, а она аккурат в этом месте. Более того – так и планировалось. Но известно: хочешь рассмешить богов – расскажи им о своих планах.
Ветра не было. От слова «совсем». В первый день мы еще не знали, что день за днем штиль будет сводить нас с ума, лишь раз издевательски сменившись штормовыми порывами, в миг разогнавшими на озере совершенно морскую волну с барашковыми воротниками. Мы вышли и тут же вернулись – безопасность прежде всего. А наутро снова ни движения: куда там парус – лист не шелохнется!
Но всего этого мы еще не знали, в будущее смотрели с оптимизмом и уже на следующий день решили устроить себе приключение.
Банный день
Мы топили «Динго». Делали это с огоньком, азартно. Потом посуровели, потому что вдруг одичавшая «собака» упорно не хотела идти ко дну. Не склоняла гордый парус, не хлебала бортом воду. В конце концов пришлось сигануть за борт и ухватиться руками за планширь. Короче, раскачали, хлестнула селигерская водичка по банкам, залила пайолы.
Изуверская эта процедура проводилась нами сознательно. Хотелось убедиться, что все верно в сопроводительной документации – лодка непотопляема. Штиль мероприятию способствовал, солнце тоже, вот мы и приступили…
Нашими усилиями «Динго» набрала воды, но тонуть окончательно и бесповоротно отказывалась и явно была готова принять нас обратно. Мы забрались в лодку и принялись вычерпывать воду – без лишних слов и тем более шуточек, потому как ломать не строить. Ушло на это у нас минут пятнадцать, после чего мы направились к причалу.
Там капитан оставил юнгу наводить на лодке идеальный порядок – он молодой, ему положено, сам же поднялся к баньке, что стояла у самого берега, и как только не сносит ледоходом.
Сел на скамейку у крыльца. Тут дверь бани скрипнула и открылась. На пороге появился Лексеич, местный житель лет преклонных, подбирающихся к 80. Был Лексеич бос и в обычном одеянии – вылинявшей майке и галифе с лампасами и штрипками.
– Чем это вы тут занимались? – Лексеич пригладил редкие волосины на затылке, сквозь которые проглядывала по-детски розовая кожа. – Я в окно видел.
– Лодку топили.
На это бывший полковник не выказал ни малейшего удивления, присел рядом, чиркнул спичкой, закурил и вздохнул:
– О-х-х. Сын вчера приехал. В доме спит, а я здесь упал. О-х-хорошо посидели.
– Нельзя столько пить, – укоризненно молвил капитан яхты «Динго». – Жара-то какая. О сердце думать надо. Годы-то какие, не вьюношеские.
– Э, милай, – еще раз тяжко вздохнул старик, – водка, она погоду не выбирает.
Парировать было нечем.
Подошел сын, отрапортовал:
– Прибрался. Отсеки непотопляемости проверил – сухо.
– Благодарю за службу, – поощрил подрастающее поколение капитан.
– Топили, значит, – напомнил о себе Лексеич. – Грех это. Чтобы сами… чтобы самим…
– Так ради ж эксперимента!
– Был у нас тут один экспериментатор, сильно ученый, тоже под парусами ходил.
Старый усталый швертбот
Швертбот лежал у другой бани, на серых от времени подпорках, в березовой тени. Названия уже не прочитать, цифры-буквы на носу стерлись, да и какого ГИМСа кого они теперь волнуют? По фанере, оклеенной стеклорогожей, отчего казалось, что она обмотана мокрыми «вафельными» полотенцами, расползался лишайник. А вот пыли не было. На Селигере с пылью вообще плохо, и с грязью тоже, это же не черноземье, тут песок, дождь прошел – через полчаса ни следа, ни лужицы. Тут, кстати и к сведению рыболовов, потому и с наживкой плохо, ушлые люди червей продают под два рубля за штуку. За сезон озолотиться можно, да только ушлых маловато, лень-матушка заедает.
Каким бы по размерам ни было судно, а своя биография у каждого есть. Кто построил, где, с какой целью?
Этому швертботу суждено было родиться в квартире обычной «хрущобы» в подмосковной Апрелевке. Давно, в 70-е годы прошлого века, тогда самостройщиков хватало и эллинги на третьем этаже жилого дома чем-то исключительным не являлись. Жил в той квартире инженер с «ящика» Андрей Аркадьевич. Человек, хорошо разбиравшийся в двухканальных цифроаналоговых следящих приводах, о чем свидетельствовали с десяток патентов. И была у Андрея Аркадьевича страсть – паруса. Поднимал он их над байдаркой – и по любимому Селигеру. Потом на премию за очередное изобретение повезло купить дом у воды. А где дом, там и причал, а у причала… ну не байдарку же швартовать. Подумывал Андрей Аркадьевич купить новинку малого судостроения – яхточку «Ассоль», но и деньги закончились, и очередь за единственной парусной яхтой, поступавшей в розничную продажу в СССР, была просто ужас. Тогда без лишней суеты он начал строить швертбот в собственной гостиной – пришлось ему самом, и жене с дочерью потесниться. Но даром что инженер, с размерениями просчитался: с длиной не оплошал – стены комнаты не раздвинешь, а в ширине по миделю ошибся – когда по весне вытаскивали швертбот из комнаты наружу («Майна! Вира! Ты крановщик или кто?»), пришлось оконную раму выломать, нескольких сантиметров не хватало, не лодку же мять-уродовать.
Погрузили на прицеп – и на озеро. Много Андрей Аркадьевич ходил под парусами по Селигеру, но прошли годы, ушло здоровье. Швертбот лег вверх килем. Мачта, паруса, шверт, румпель, перо руля укрылись в той же бане под крышей. Андрей Аркадьевич все надеялся, что отступит болезнь, а она не отступила – забрала.
Так и лежит старый швертбот у бани на берегу Полновского плеса. И вряд ли когда вспомнит былое, расправит паруса, а коснувшись воды, удержится на ней.
– А других парусных лодок у нас и не было, – авторитетно проинформировал нас старожил Лексеич. – До вас.
Те еще паруса
Утверждение, что мы тут чуть ли не первооткрыватели, оказалось ошибочным. Хотя ни одной парусной лодки за все время пребывания на северном Селигере мы не увидели. А хотелось бы поприветствовать и удостовериться, что она уступает «Динго» по изяществу и красоте. При этом паруса на плесе появляются. Мы их видели. Целых два раза.
– Полосатенький по курсу, – доложил Павел Зоркий Сокол.
Парус был бело-красным, напоминая этим польский флаг. Он бессильно обвисал за кормой тяжелой «дюральки» – подвесной парус, явно конструкции Антеро Катайнена и явно из тех, что некогда выпускались на Тюменском моторном заводе.
«По курсу» – это сын преувеличил. Мы не шли – стояли, лениво поворачиваясь на одном месте. Стояла и «дюралька» с творением финского яхтсмена на транце. Нам бы подойти, но наш моторчик вдруг закапризничал, а люди в «дюральке» взялись за весла, и она на удивление быстро скрылась в ближайших камышах. Только мы ее и видели. Вернее, так: только – мы – ее – видели!
Сердца наши между тем преисполнились радостью: значит, есть паруса на Полновском плесе, пускай неказистые, но есть.
На следующий день мы убедились в этом еще раз. На песчаном берегу под названием Перлос, который, впрочем, все называют прозаически – Пески, мы увидели надувной катамаран «Альбатрос», но и его парус был неподвижен, а уишбоны горбились по его бокам, как ребра огромной щуки, случайно пойманной и благополучно съеденной.
Мы нашли хозяина катамарана. Он вылез из палатки, одной из тех, что разноцветными пятнами рассыпались по берегу, и, узнав о нашем интересе, начал жаловаться на погоду: ну что за аномалии, понимаешь!
Валентин, так звали катамаранщика, приехал из Питера. Приехал – и пожалел: ни тебе пройтись под парусом – с ветерком, ни в холодке полежать-отдохнуть – такая жара, что и тень не спасает.
– Давно под парусом?
– Я-то? Да сколько себя помню. Сначала отец ходил, теперь моя очередь. Катамаран у нас старенький, латаный, но дело свое знает.
– А приобрести что-то посолиднее не было желания?
– Мне хватает. Всего-то месяц в году – чего заморачиваться? Я же не яхтсмен – турист.
И тут взгляд Валентина упал на нашу лодку, и он словно бы подобрался, как гончая, завидевшая зайца, вот сейчас бросится!
Так и произошло. Ахи, охи, восторги – и любопытство с ощутимой перспективой развития. Посыпались вопросы, и мы с готовностью рассказали, кто, где, за сколько и что за лодка вообще.
Попрощавшись, мы оставили Валентина в глубокой задумчивости. Турист, значит, ну-ну. И тем же вечером всезнающий и все помнящий Лексеич рассказал нам, что несколько лет, в июле, в деревне снимали дом молодые ребята. «Откуда сами, того не ведаю, а врать не хочу». Так они тоже привозили с собой надувной катамаран. Большой такой, оранжевый, с черными острыми колпаками впереди.
Это Лексеич так сказал – с «колпаками», на самом деле – с обтекателями. Это явно был катамаран «Простор».
– И как ходили?
– Лихо! Не то что вы на этой тихоходке.
Мы обиделись за «Динго» и оставили вредного старика наедине с сигаретой «Ротманс». Ладно бы «Прима», а то «Ротманс»! Хотя, конечно, хороший у Лексеича сын, щедрый.
Туркомбинат и его наследники
Раньше все было по-другому. Но это было давно. Очень. Еще до войны на Селигере появились турбазы, провозвестники организованного «водного туризма». Между прочим, первые в стране.
Молодых ребят, комсомольцев, привозили на грузовиках из столицы озерного края – Осташкова, куда они прибывали из Твери, Москвы, Ленинграда. В кузовах, расчерченных лавками, было тесно от желающих отдохнуть с пользой для себя и государства. Именно так, потому что дело считалось важности государственной. В здоровом теле здоровый дух, и все такое.
Летом 1934 года рядом с деревней Неприе возник настоящий палаточный городок – Селигерский комбинат туристско-экскурсионного управления ВЦСПС. Как дополнение к палаткам – два двухэтажных административных здания и несколько хозяйственных построек.
Истинным сердцем туркомбината была водная станция. В момент открытия у ее причала стояли три швертбота – два совсем простеньких и новенькая «Эмка». На возведенной неподалеку верфи под руководством опытного мастера-судостроителя Василия Ивановича Брызгалова ладили новые суда. За два следующих года флот водной станции пополнился четырьмя швертботами М-20 и деревянными байдарками с обводами «шарпи», некоторые из них имели и паруса. А потом на Селигер из Ленинграда привезли килевую яхту Л-45!
Туристы, ставшие курсантами, знакомились с особенностями акватории, листали лоцию, изучали конструкцию и парусное вооружение различных судов, а затем отправлялись в плавание по Селигеру, продолжавшееся от трех дней до недели. По окончании похода его участникам вручались только что введенные в оборот значки «Турист СССР». Те же из курсантов, кто успешно освоил азы парусного искусства, получали особый документ за подписью Брызгалова, подтверждающий право вождения маломерных парусных судов. С печатью! И все это было очень и очень серьезно, никакого начетничества, о чем говорит, к примеру, такой факт: одним из выпускников туркомбината был Константин Александров, в будущем трехкратный чемпион Москвы в классе М-20.
Планы были грандиозные, но началась война, и от Селигерского туркомбината ВЦСПС не осталось ровным счетом ничего. И ничего не появилось взамен. Многочисленные турбазы, а потом и дома отдыха, даже престижный новопостроенный пансионат «Сокол» предлагали отдыхающим лишь «фофаны» да «пеллы», чтобы греб народ и повышал тонус, и байдарки с той же целью. Какие еще паруса?
Но они на Селигере появились. И во множестве! Самодеятельные туристы привозили складные польские швертботы «Мева», надували катамараны, вешали на борта байдарок – «Салютов» и «Тайменей» – шверцы, ставили мачты и поднимали паруса. Кто-то уходил на Волгу по реке Селижаровке, кто-то кружил по озеру. И те, что оставались, как водится, сбивались «в кучу». На берегу самого крупного из островов – острова Хачин, появлялись настоящие «стойбища» туристов-парусников. Иногда они устраивали гонки, например, до острова Столобный, на котором находится огромный (тогда запущенный донельзя, а ныне успешно реставрируемый) монастырь Нило-Столобенская пустынь.
А потом неожиданно и коварно, как война в 1941 году, пришла перестройка и новые ветры повымели с Селигера паруса. Почти подчистую.
Теперь рычат моторки, проносятся скутеры и лишь изредка где-то вдалеке мелькнет белый лоскуток. И тогда ты спросишь в шутку: «Белеет парус одинокий… Что это, Сигизмунд?» – и тебе так же по-райкински ответят: «Правильно, Сигизмунд, это Евтушенко». На самом деле грустная картина. Не Айвазовский.
Свистать всех на борт
Ветер продолжал упрямиться, лишь вечерами просыпаясь от летаргического сна. Да и то не до конца, предпочитая оставаться в полудреме. Чуть задувало то с юго-запада, то, северо-запада, а других ветров здесь и не бывает, такая здесь «роза». Обнадежит слегка – и снова погружается в сон.
Но у нас с собой было!
На веслах лодка шла ходко, послушно повинуясь рулю, но охотно обходясь и без него. Был у нас и мотор – японский двухтактник на 3.5 л.с. В сопроводительной документации к лодке указывалось, что ставить можно и 4-сильный, но мы убедились, что мощность эта избыточная. На глиссирование динги все равно не вывести, так что можно обойтись и двумя «лошадками».
В общем, все переходы у нас были «композитными»: с утра и вечером - под парусом, ловя легчайшие порывы, днем большей частью на веслах и под мотором. Благодаря этому значительную часть изначально стоявших задач нам выполнить все же удалось. На островах побывали, западный берег плеса изучили – сами мы жили на восточном.
До Полнова добирались долго. Если бы не мотор, даже не отважились бы. Десять километров на веслах, да при таком пекле, это не сладко. Но дошли, и уже на подходе подняли парус. Нет, ветра считай что и не было, но подойти мы обязаны были при полном параде.
Причал оказался полуразрушен. С советских времен сюда не приходят пассажирские «трамвайчики» из Осташкова, они вообще больше не заходят на Полновский плес. Реку Полновку, вернее, протоку, никто не чистит, и пройти по ней из Кравотынского плеса рулевые сколько-нибудь серьезных судов не отваживаются. А в обратную сторону идти некому.
Лодку окружила дети. Их родители загорали чуть поодаль. В детских глазах удивление мешалось с восторгом, а общим было: «Дяденька, прокати!».
- Ладно, - сказал я. – Прокати их. Но не больше чем по двое, и в спасжилеты, и чтобы с согласия пап-мам.
Сын взглянул на меня без усмешки, хотя что-то такое вроде бы пряталось в уголках губ:
- Есть, сэр!
Без пяти минут пассажиры метнулись к родителям за разрешением, а я направился в магазин.
Их в Полново несколько. Три супермаркета, два хозяйственных. Есть аптечный пукт. Ассортимент – как в большом городе, вполне достаточный. Насмешило изобилие морской рыбы – замороженной и консервов из оной. Это на Селигере-то! А вот фрукты-овощи не очень, ниже среднего по качеству.
Вообще, с торговыми точками на Полновском плесе, скажем так, негусто. Потому что и с людьми негусто, только в летние месяцы наезжают туристы и дачники.
В Покрове такой точки вообще нет (раз в неделю приезжает автолавка), что и понятно – домов меньше двух десятков. Есть «сельпо» в Новом Скребле, в Лаврове, в деревнях на западном берегу, но по сравнению с универсамами Полнова они как «Продукты» на окраине мегаполиса и гастрономы в его центре. А желаете деликатесов – извольте в Демянск.
И кстати, туда же за бензином, потому что там ближайшая заправка. По ямам… Когда мы в своих походах сожгли весь 92-й, то кинулись к Лексеичу, и тот поделился канистрой, да будет славно имя сего полковника во веки веков! И 95-го предлагал, но тут мы были предусмотрительны, еще на М10 заправившись «под горло».
Увешанный пакетами, я вернулся на берег. Пришлось повременить с отходом – катание на динги продолжалось. Во время терпеливого ожидания я просвещал родителей будущих яхтсменов на предмет, что такое динги, парусный спорт в целом и что мы тут вообще делаем. Тоже нужное дело.
Острова любви и войны
Больше всего нам понравились острова. Особенно два – Козлище и Бежачий. Первый – названием, про которое никто не смог сказать ничего внятного. Второй – тоже названием, но тут есть легенда.
Жили в этих краях когда-то парень и девушка., и очень они друг друга любили. Только не суждено им было венчаться, нарожать детей и умереть в один день. Семьи их враждовали, ну, чисто Монтекки и Капулетти. Прознав о том, что дочка собирается улизнуть с любимым из-под отцовского крыла, Капулетти-старший шибко разгневался и посулил молодцу смерть скорую и лютую. Девушка парня предупредила о грядущем возмездии, и тот пустился в бега. Но убежать далеко не успел, потому что Капулетти был еще и злым колдуном. Произнес заклинание, и застыл парень прямо на бегу каменным островом, который назвали Бежачим. А девушка, сама из рода волшебников, махнула рукой и стала горой Ореховной, самой высокой в этих местах. Так они и смотрят с тех пор друг на друга… Иногда Бежачий называют островом Любви.
Туристы свои палатки ставят на нем редко. Обычно Бежачий безлюден. Остров напоминает запятую, где «хвостик» зарос тростником, южный берег пологий, с роскошным пляжем, а северный – крутой, как и бывает на островах, возникших в ледниковый период, это он землю подвинул и скособочил. Так вот на косогоре этом столько грибов! Белые, подосиновики! Коли с погодой повезет, с корзинами уйдете. Нам-то не повезло, дождей не было, но Лексеич в сезон туда регулярно наведывается.
А еще на острове траншеи, окопы, стрелковые ячейки. Сколько лет прошло, а не осыпались до конца, не заросли, не исчезли.
Кто в ладах с военной историей, тому известно, что такое Демянские котлы: сначала наши из окружения пробивались, потом немцы. Линия фронта проходила как раз у Полнова. Западный берег был немецким, восточный – советским. Острова тоже «на двоих» поделили. Так больше года друг против друга и простояли, в землю зарывались.
Противотанковые рвы, траншеи, землянки, блиндажи и окопы, окопы… Военного наследия здесь много, особенно на мысе Милота, на полуостровах-наволоках Баран, Боровик, Толстик, Добромыш…
– А почему Милота? – спросил сын. – Почему Добромыш?
Ответа у меня не было, этимологическое расследование загодя проведено не было. Недочет, «двойка» мне. А названия вокруг и впрямь занятные, и не только финно-угорские: Красота, Кривая Клетка, Запрометно, Перерва, Скребель Старый и Новый. Но это поправимо, к следующему приезду выясню.
Магнетическая сила
– Ну, прощевайте, яхтсмены, – сказал стеснительный экс-полковник Лексеич, так и не согласившийся сфотографироваться на память. – Авось увидимся.
Скажет тоже, яхтсмены. Без ветра, на динги. Это как умеющего складывать слова в предложения писателем назвать, а рифмовать – поэтом. Хотя… Мир паруса многолик и тем прекрасен. Не без своей элиты, конечно, и не без огрехов. Прибрежные гонщики на парусных болидах, бывает, свысока посматривают на чартеристов, встречая снисходительные улыбки тех, кто ценит комфорт и душевное спокойствие, а не только скорость. А те и другие – на скромные лодочки, вроде нашей. Разные масштабы, разные цели, разные акватории, разные яхты... Но ведь яхты, а над ними паруса! И вольный ветер, и жажда свободы – это главное, это объединяет, и оставим ненужные споры. Поэтому прав Лексеич, нечего скромничать.
- Мы вернемся, пап?
Да, мы вернемся на Полновский плес. Не знаю пока, где остановимся, благо выбор есть, может быть, в гостевых домах «Константиновой усадьбы» или на турбазе «Остров», но, наверное, все же в Покрове. Всего-то неделю прожили, а будто сроднились.
Говорят, места эти, где берут начало три реки – Волга, Днепр и Северная Двина, сам Господь в макушку поцеловал. Оттого притягивают они к себе неведомой силой. Побывал – не забудешь, не приедешь – пожалеешь.
Мы вернемся.
***
Я уеду на Селигер,
В край простреленных солнцем лесов.
Я уеду на Селигер,
В край монахов и рыбаков.
Там средь озера высится храм,
Возведенный не чудом – людьми,
И так щедро подаренный нам.
Люди были другими – не мы.
Там не жалко себя отдавать.
«Сердца возьмите чуть-чуть, например».
Было б только кому это взять...
Я уеду на Селигер.
Легкий парус над синей водой,
В ней купаются облака.
Я иду незнакомой тропой,
Ошалевший от счастья слегка.
Тем, кто честен с собой, Господь
Отмеряет всегда десять мер.
Остается их только прожить!
Мне б уехать на Селигер…
***
Опубликовано в Yacht Russia №9 (111), 2018 г.
Мороз, ветер, поземка. Случалось ли вам видеть парусные гонки в такую погоду? По белой равнине, поднимая снежную пыль, летят десятки разноцветных крыльев...
Издавна считается, что борода моряка - символ мужской силы, отваги, воли, мудрости, гордости. Особенно если эта борода шкиперская, фирменная.
В гости к Табарли - один день из жизни Брижит Бардо и Алена Делона
«Если вы знаете историю, если вы любите корабли, то слова «обогнуть мыс Горн» имеют для вас особое значение».
Сэр Питер Блейк
Объемные очертания, надежная рубка и много лошадиных сил – вот что отличает мотосейлер от других яхт. Когда-то весьма популярные, сегодня они занимают на яхтенном рынке лишь узкую нишу. Собственно, почему?
Каждый яхтсмен должен быть «на ты» с навигационными огнями – судовыми и судоходными. Но есть огни, которые «живут» сами по себе, они сами выбирают время посещения вашего судна, а могут никогда не появиться на нем. Вы ничего не в силах сделать с ними, кроме одного – вы можете о них знать. Это огни Святого Эльма и шаровая молния.